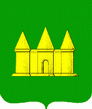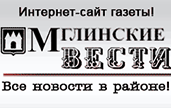–ê–Ω–∞—Å—Ç–∞—Å–∏—è –®–ø—É–Ω—Ç–æ–≤–∞
–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã
–ò—Ö —É–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª
–ü–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ –ø–æ —Å–µ–ª—É –µ—Ö–∞–ª —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–∏–π —Ç–∞–±–æ—Ä. –°—Ç–æ—è–ª–æ –∑–Ω–æ–π–Ω–æ–µ –ª–µ—Ç–æ. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —Ç–∞–±–æ—Ä–∞ –Ω–∞ —É—Ö–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–π, —Å–∏–ª—å–Ω–æ–π –ª–æ—à–∞–¥–∏ —Å–∫–∞–∫–∞–ª –ø–æ–ª–∏—Ü–∞–π. –í–¥–æ–ª—å —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã –¥–≤–∏–≥–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –º–æ—Ç–æ—Ü–∏–∫–ª–∞—Ö –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã–µ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞–º–∏ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ —Å—Ç—Ä–∞–∂–∏. –¢–∞–±–æ—Ä –∑–∞–º—ã–∫–∞–ª –º–æ–ª–æ–¥–æ–π, —Å–æ –∑–≤–µ—Ä–∏–Ω—ã–º –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –ª–∏—Ü–∞, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–∏—Ü–∞–π.
Немцы что-то орали, тогда полицаи взмахивали дубинками, подгоняя измученных цыганских лошадей. Помню жалкий плач цыганских детей, исстрадавшихся от жары и от голода. Вот я слышу душераздирающий крик женщины. Табор останавливается на несколько коротких минут. Отчаянный вопль женщины-цыганки разрывает воздух. На улицу выбегают люди. Я бегу туда, откуда доносятся эти жуткие рыдания. Вижу, как молодая цыганка склонилась над умирающим ребенком. Полицай вскакивает в кибитку, хватает умершего ребёнка и бросает его в коляску мотоцикла, прикрыв тряпицей. Наш народ никогда не любил цыган за их попрошайничество, воровство, обман. Но у каждого народа своя судьба, свои обычаи, своя жизнь. В эти горькие минуты люди забыли о своей неприязни к цыганскому племени. Всех объединило одно общее горе – война. Наши женщины бросились в дома, чтобы вынести несчастным кусок хлеба или картошечку. Но полицаи не дремали. Взмах плётки – женщины, плача, убегают. Табор уходит на запад.
–Ø —á—ë—Ç–∫–æ –≤–∏–∂—É –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—é—é —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫—É—é –∫–∏–±–∏—Ç–∫—É. –ù–∞ —Ç—Ä—è–ø—å–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ —é–Ω–∞—è —Ü—ã–≥–∞–Ω–∫–∞. –Ø –ø—Ä–æ–∂–∏–ª–∞ –¥–æ–ª–≥—É—é –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∞ –±–æ–ª—å—à–µ —Ç–∞–∫–æ–π –Ω–µ–∑–µ–º–Ω–æ–π –∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –æ–¥–µ—Ç–∞ –≤ –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ–µ —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–æ–µ –ø–ª–∞—Ç—å–∏—Ü–µ, –ø–æ–¥—á—ë—Ä–∫–∏–≤–∞—é—â–µ–µ –µ—ë —Ç–æ–Ω–∫—É—é, –∏–∑—è—â–Ω—É—é —Ñ–∏–≥—É—Ä–∫—É –∏ –≤—ã–¥–µ–ª—è—é—â–µ–µ –µ—ë –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–∏: —Å—Ç—Ä–æ–π–Ω—ã–µ –Ω–æ–≥–∏ –∏ —Ç–æ–Ω–∫–∏–µ –æ–∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ —Ä—É–∫–∏. –Æ–Ω–æ–µ, –±–µ–ª–æ–µ, —Å –º–∞—Ç–æ–≤—ã–º –æ—Ç—Ç–µ–Ω–∫–æ–º –ª–∏—Ü–æ –µ—ë –æ–±—Ä–∞–º–ª—è–ª–∏ –ø—ã—à–Ω—ã–µ —Å–º–æ–ª—è–Ω—ã–µ –≤–æ–ª–æ—Å—ã —Å —Ç—è–∂—ë–ª—ã–º–∏ –∫–æ—Å–∞–º–∏ –¥–æ —Ç–∞–ª–∏–∏. –ù–∞–¥ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º —É—à–∫–æ–º –¥–µ–≤—É—à–∫–∏, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —á—É–¥–µ—Å–Ω—ã–π —Ü–≤–µ—Ç–æ–∫, –≤ —á—ë—Ä–Ω—ã—Ö –≤–æ–ª–æ—Å–∞—Ö –≥–æ—Ä–µ–ª —è—Ä–∫–æ-–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –±–∞–Ω—Ç–∏–∫. –ê–ª—ã–µ, –ø–æ–ª–Ω—ã–µ –≥—É–±—ã –∏ –±–µ–ª–æ–∑—É–±–∞—è —É–ª—ã–±–∫–∞ –¥–µ–≤—É—à–∫–∏ –ø—Ä–∏—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å, –¥–µ—Ç–µ–π, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –º–∞–≥–Ω–∏—Ç. –ù–æ —Å–∞–º—ã–º –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –Ω–∞ –µ—ë –ª–∏—Ü–µ –±—ã–ª–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –≥–ª–∞–∑–∞. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–∏–Ω–∏–µ-—Å–∏–Ω–∏–µ. –ì—É—Å—Ç—ã–µ, —Ç—ë–º–Ω—ã–µ —Ä–µ—Å–Ω–∏—Ü—ã, –±—É–¥—Ç–æ –Ω–µ–∂–Ω—ã–µ —Ç–µ–Ω–∏, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ —ç—Ç–∏ –¥–≤–∞ –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤—ã—Ö –æ–∑–µ—Ä–∞. –ï—ë –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞, –∏–∑—è—â–µ—Å—Ç–≤–æ –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª–∏ –µ—ë –∏–∑ —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–æ–π —Å—Ä–µ–¥—ã. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö —Å–æ–ø–ª–µ–º–µ–Ω–Ω–∏—Ü. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–∞. –¶—ã–≥–∞–Ω–∫–∞ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ –∏ —É–ª—ã–±–∞–ª–∞—Å—å, –Ω–µ –∑–Ω–∞—è –Ω–µ –≤–µ–¥–∞—è, –∫—É–¥–∞ –∏ –∑–∞—á–µ–º –µ—ë –≤–µ–∑—É—Ç. –Æ–Ω–∞—è, —Å–æ–≤—Å–µ–º –µ—â—ë –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞, –æ–Ω–∞ —É–ª—ã–±–∞–ª–∞—Å—å –∂–∏–∑–Ω–∏: –Ω–µ–±—É, —Å–æ–ª–Ω—Ü—É, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–µ—Ä–≤–æ–º—É —á—É–≤—Å—Ç–≤—É –ª—é–±–≤–∏, –∫–æ—Å–Ω—É–≤—à–µ–º—É—Å—è –µ—ë –¥—É—à–∏. –î–µ–≤—É—à–∫–∞ —Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å, –∑–∞–±—ã–≤ —Ç—è–≥–æ—Ç—ã –≤–æ–π–Ω—ã –∏ —Ç—è–∂—ë–ª—ã–µ —Ü—ã–≥–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –±—É–¥–Ω–∏.
Мы, дети, смотрели вслед удаляющейся кибитке. Красавица мило посмотрела на нас, чарующе улыбнулась и помахала нам ручкой. Полицай тихо бросил: «Их везут на расстрел».
–ò—Ö –≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥, –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–æ—Å—ë–ª–∫–∞ –í–∏—à–Ω–µ–≤—Å–∫–∏–π. –ò—Ö —É–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –≤ –ø–æ–ª—è –∏ –ª–µ—Å–∞. –ò—Ö —É–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª.
–®—É—Ä–æ—á–∫–∞
–®—É—Ä–æ—á–∫–∞ –∂–∏–ª–∞ –≤ –ü—è—Ç–æ–≤—Å–∫–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –æ–¥–∏–Ω –¥–æ–º –æ—Ç –Ω–∞—à–µ–≥–æ. –î–æ –≤–æ–π–Ω—ã –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞ —Å–µ–º—å –∫–ª–∞—Å—Å–æ–≤ –∏ –∫—É—Ä—Å—ã —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–π –¥–ª—è –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ–π —à–∫–æ–ª—ã.
А тут – война. Девочка повзрослела, оформилась, как-то внезапно стала очаровательной девушкой. Её нельзя было назвать красавицей, но её манера говорить, улыбаться, одеваться со вкусом делали её неотразимо женственной.
–Ø –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å —è–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤–∏–∂—É –µ—ë. –í–æ—Ç –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –æ–Ω–∞ –≤ –≥–æ—Ä—É, –Ω–µ—Å—è –≤—ë–¥—Ä–∞ —Å –≤–æ–¥–æ–π –Ω–∞ –∫–æ—Ä–æ–º—ã—Å–ª–µ. –ù–µ—Ç, –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –∫–æ—Ä–æ–º—ã—Å–ª–æ. –®—É—Ä–æ—á–∫–∞ –Ω–µ–∫—Ä—É–ø–Ω–æ —à–∞–≥–∞–µ—Ç, –≤—Å–∫–∏–Ω—É–≤ –∫–≤–µ—Ä—Ö—É –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é –≥–æ–ª–æ–≤–∫—É —Å —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã–º–∏ –ø—ã—à–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–ª–æ—Å–∞–º–∏; –µ—ë –±–æ–ª—å—à–∏–µ –∫–∞—Ä–∏–µ –≥–ª–∞–∑–∞ —Å –ª—É–∫–∞–≤–∏–Ω–∫–æ–π —É—Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω—ã –≤ –Ω–µ–±–µ—Å–Ω—ã–µ –¥–∞–ª–∏, –Ω–æ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –±–∞–ª–∞–Ω—Å–∏—Ä—É–µ—Ç –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º —Ç–µ–ª–æ–º —Å—Ç–∞—Ç—É—ç—Ç–∫–∏: —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º—è–≥–∫–æ –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –µ—ë –±—ë–¥—Ä–∞, —Ç–æ–Ω–∫–∞—è —Ç–∞–ª–∏—è –∏–∑—è—â–Ω–æ –≥–Ω—ë—Ç—Å—è, –∏ –Ω–∞ —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç—å –ø—Ä—è–º–∞—è —Å–ø–∏–Ω–∫–∞ –∏ –æ–∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ –ø–ª–µ—á–∏–∫–∏ –∫–æ–∫–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø–æ–¥—ë—Ä–≥–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Ç–∞–∫—Ç —à–∞–∂–∫–∞–º. –í–æ—Å—Ö–∏—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏—è!
–ö–æ—Ä–æ–º—ã—Å–ª–æ –ø–æ–∫–æ—Ä–Ω–æ –ª–µ–∂–∏—Ç –Ω–∞ –µ—ë –ø–ª–µ—á–∏–∫–µ, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏–≥–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ–µ, –∏ –≤—ë–¥—Ä–∞, –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ –∫—Ä–∞—ë–≤, –ø–ª—ã–≤—É—Ç —Ç–∞–∫ –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–∞ –∫–∞–ø–ª—è –Ω–µ –≤–∑–¥—É–º–∞–µ—Ç –≤–æ–∑–º—É—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∏ –≤—ã—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≤–æ–ª—é. –í —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–π—à–µ–π –≥–ª–∞–¥–∏ –≤—ë–¥–µ—Ä –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞—é—Ç—Å—è —Å–∏–Ω–µ–≤–∞ –Ω–µ–±–∞ –∏ –∏–≥—Ä–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –Ý–∞—Å–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ —Ç–µ–ª–æ –®—É—Ä–æ—á–∫–∏ –∏–≥—Ä–∞—é—á–∏, –ª–µ–≥–∫–æ –∏ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –≥–æ—Ä—É. –ì–æ–ª–æ–≤–∫–∞ –¥–µ–≤—É—à–∫–∏ –Ω–µ–ø–æ–¥–≤–ª–∞—Å—Ç–Ω–∞ –∂–∏—Ç–µ–π—Å–∫–∏–º –∑–∞–±–æ—Ç–∞–º. –í –≥–ª–∞–∑–∞—Ö ‚Äì –º—è–≥–∫–∏–π, —Ç—ë–ø–ª—ã–π —Å–≤–µ—Ç, –Ω–∞ –≥—É–±–∞—Ö ‚Äì –±–ª—É–∂–¥–∞—é—â–∞—è, –º–∏–ª–∞—è, –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω–∞—è —É–ª—ã–±–∫–∞. –®—É—Ä–æ—á–∫–∞ –∂–∏–≤—ë—Ç —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –ª—é–±–≤–∏‚Ķ
–ê –∫–∞–∫ —É–º–µ–ª–∞ –æ–Ω–∞ —Å–º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –Ω–∞—Ä—è–¥ –∏–∑ –Ω–∏—á–µ–≥–æ! –≠—Ç–∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–µ –ø–ª–∞—Ç—å–∏—Ü–∞ –∏ –±–ª—É–∑–∫–∏ –Ω–∞—Å –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥. –ü–æ–¥—Ä—É–∂–∫–∏ –∏—Ö –∫–æ–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏, –¥–∞ –∫—É–¥–∞ –∏–º –¥–æ –®—É—Ä–æ—á–∫–∏! –¢–∞–º –≤—Å—ë —Ä–µ—à–∞–ª–∏ –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ—ë —É–º–µ–ª—ã–µ —Ä—É–∫–∏, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—Ç–æ—á–µ–Ω–Ω–æ–µ —Ç–µ–ª–æ –±–æ–≥–∏–Ω–∏ –§–ª–æ—Ä—ã.
–ú–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –®—É—Ä–æ—á–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –±–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω–æ –ª—é–±–≤–µ–æ–±–∏–ª—å–Ω–∞. –®—É—Ä–æ—á–∫—É –ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞–ª–∏, —Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª–∏, –ª—é–±–∏–ª–∏.., –∞ –∂–µ–Ω–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å–µ—Ä—ã—Ö, –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –Ω–µ—Å–∏–º–ø–∞—Ç–∏—á–Ω—ã—Ö –∑–∞–Ω—É–¥–∞—Ö, –Ω–æ, –ø–æ –∏—Ö –º–Ω–µ–Ω–∏—é, –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω—ã—Ö.
Помню её бурный роман с В.М. В. кадровый офицер служил до войны где-то в Подмосковье. Там он женился на медсестре Нине, симпатичной девушке из Орехово-Зуево. У них родилась дочь. Война…В. Ушёл на фронт.
Когда Брянщину освободили от немцев, В. получил отпуск, приехал в Пятовск к отцу-матери. И увидел Шурочку. И были ночи, и была любовь. И была разлука. И что удивительно! В селе ни злословия, ни пересудов. Обаяние Шурочки распространялось на души самых отъявленных сплетниц, нейтрализуя их любопытство и злые языки. Вскоре приехала и жена В. с дочкой. Но он уже уехал. Узнав о похождениях мужа, мудрая женщина ответила: «Ну и пусть. Война…»
–ü–æ–≥–∏–± –æ–Ω –Ω–µ–∑–∞–¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –≤–æ–π–Ω—ã. –ö–∞–∫–æ–≤–æ –∂–µ –±—ã–ª–æ –≥–æ—Ä–µ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–≤—à–∏—Ö –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—ã–Ω–∞.
А Шурочка? Она порхала будто Дюймовочка, с цветка на цветок; по-прежнему влюблялась, бросала, её тоже любили, бросали, но, выражаясь языком современного жаргона, ей было всё «по барабану».
–û–Ω–∞ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∑–ª–æ–ø—ã—Ö–∞–ª–∞, –Ω–µ –æ—Å–∫–æ—Ä–±–ª—è–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏—Ö –µ—ë –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞ –≤–ª—é–±–ª—è—Ç—å—Å—è, –∫–∞–∂–¥—ã–º –∏–∑–±—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–º –≤–æ—Å—Ö–∏—â–∞–ª–∞—Å—å –∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∞ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –≤ –µ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω–∏. –ù—É, –¥—É—à–µ—á–∫–∞! –ß–µ—Ö–æ–≤—Å–∫–∞—è –¥—É—à–µ—á–∫–∞! –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ.
Помню свадьбу в доме моей подруги Н.С. Её старшая сестра выходила замуж в 46 году за нашего односельчанина П.Д. Жених вырос в добропорядочной семье, переехавшей из Брян-Кустич в Пятовск в голодное время тридцатых годов. Ещё в довоенное время на фоне деревенских парней П. выделялся внутренней культурой, врожденным умом, тактом и красотой. До призыва в армию работал в селе заведующим клубом и читальней. После срочной службы остался в армии. Война…От П. – ни строчки.
В 43 году он писал письма родителям, частые, теплые. …И вот приезд. Ему – 28 лет, невесте – 21. Свадьба: молодые, Н.С., я и Шурочка. И это вся послевоенная свадьба! На столе пара бутылок дешёвого вина и нехитрые закуски. Мы пьём за здоровье и любовь молодых. Нам хорошо, весело. А Шурочка в своей стихии – она уже положила глаз на жениха. Я на балалайке тренькаю «Цыганочку», и Шурочка раскованно, игриво выходит на центр комнаты. Её стройные ножки выбивают каблучками «колена», гибкое тело легко кружит по комнате, во взгляде её светло-карих глаз играет улыбка. Конечно, ей далеко до Манюшки Гордоновой. Но фигурка, глаза, очаровательные уста, кокетливая гармония тела и духа делают её неотразимой.
–ù–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º, –Ω–æ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã–º –≥–æ–ª–æ—Å–∫–æ–º –®—É—Ä–æ—á–∫–∞, –∏–≥—Ä–∏–≤–æ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–≤ –Ω–∞ –∑–∞—Å—Ç–æ–ª—å–µ, –ø—Ä–∏–ø–µ–≤–∞–µ—Ç:
–ù–µ –≥–∞—Ä–º–æ—à–µ—á–∫–∞ –∏–≥—Ä–∞–µ—Ç,
–ê —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –ø–∞–ª—å—á–∏–∫–∞.
–ú–∏–ª–∫–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫—É —Ä–æ–¥–∏–ª–∞,
–ú–Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞.
–ñ–µ–Ω–∏—Ö –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç —Ç–æ—á–Ω—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –Ω–∞ –®—É—Ä–æ—á–∫—É, –Ω–∞–ª–∏–≤–∞–µ—Ç —Å—Ç–∞–∫–∞–Ω –≤–∏–Ω–∞, –≤—ã–ø–∏–≤–∞–µ—Ç –∑–∞–ª–ø–æ–º –∏ –Ω–µ–æ—Ç—Ä—ã–≤–Ω–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –Ω–∞ –∏—Å–∫—É—à–µ–Ω–∏–µ.
–ú–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è —Ö–∏—â–Ω–∏—Ü–∞, —É—á—É—è–≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –∫ —Å–≤–æ–µ–π –æ—Å–æ–±–µ, –º–æ–±–∏–ª–∏–∑—É–µ—Ç –≤—Å–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–µ —Å–≤–æ–∏ —á–∞—Ä—ã: –≥–ª–∞–∑–∞ –µ—ë –±–ª–µ—Å—Ç—è—Ç, –≥–æ—Ä—è—Ç, –∏–∑–ª—É—á–∞—è –æ–≥–æ–Ω—å –¥—É—à–∏ –∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∂–µ–ª–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–±–µ–¥—ã. –ò –∏–∑ –µ—ë —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞, –ø—ã–ª–∞—é—â–µ–≥–æ –æ—Ç –∂–∞–∂–¥—ã –ª—é–±–≤–∏, —Ä–≤—ë—Ç—Å—è –Ω–æ–≤–∞—è —á–∞—Å—Ç—É—à–∫–∞:
–Ø –º–∏–ª–æ–≥–æ —Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª–∞,
–ê –æ–Ω –º–µ–Ω—è –≥–æ—Ä—è—á–µ–π.
–ß–µ—Ä—Ç —Å —Ç–æ–±–æ–π, —á—Ç–æ —Ç—ã –∂–µ–Ω–∞—Ç—ã–π,
–õ–∏—à—å –±—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ –¥–µ—Ç–µ–π.
–ò –≤—Å—ë —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫ –º–∏–ª–æ, –∫–æ–∫–µ—Ç–ª–∏–≤–æ, –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–Ω–æ-–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ò–≥—Ä–∞—é—Ç –ø–æ –∫—Ä—É–≥—É –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–∏ –î—é–π–º–æ–≤–æ—á–∫–∏. –í–æ—Ç –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –¥—Ä–æ–±–Ω–æ —Å—Ç—É—á–∏—Ç –∫–∞–±–ª—É—á–∫–∞–º–∏ –∏, –æ–∫–∏–Ω—É–≤ –ª—É–∫–∞–≤—ã–º –≤–∑–æ—Ä–æ–º —Å–º–µ—é—â–∏—Ö—Å—è –≥–ª–∞–∑ –∑–∞—Å—Ç–æ–ª—å–µ, –≤–ø–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –±–ª—É–¥–ª–∏–≤–æ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –∂–µ–Ω–∏—Ö–∞.
–ö—Ä–∞—Å–∞–≤–µ—Ü, –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–∏–≥–µ–Ω—Ç, –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–∏–π –≤–æ–π–Ω—É, –æ–≥–Ω–∏ –∏ –≤–æ–¥—ã, –±–∞–ª–æ–≤–µ–Ω—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω, –æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω –∏ –æ–∫–æ–ª–¥–æ–≤–∞–Ω: –æ–Ω —É–∂–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç –∏ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∏—Ç. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –®—É—Ä–æ—á–∫—É.
–í—Å—ë –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é—â–∞—è –®—É—Ä–æ—á–∫–∞ –¥–æ–±–∏–≤–∞–µ—Ç —Å–≤–æ—é –∂–µ—Ä—Ç–≤—É:
–ü–æ–ª—é–±–∏–ª –º–µ–Ω—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π,
–ê –µ–º—É —è –ø–æ –ø–ª–µ—á–æ:
–°—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å,
–ß—Ç–æ–± –µ–≥–æ –ø–æ—Ü–µ–ª–æ–≤–∞—Ç—å.
И «военный» сражен, повержен. Любвеобильная душа Шурочки, поправ все приличия, рвётся навстречу сердцу забывшегося жениха. Я чувствую, как накаляется атмосфера в доме, бросаю балалайку и, сославшись на головную боль и поздний час, с большим трудом отрываю Шурочку от танца и увожу её домой.
…Наша Шурочка ещё долго порхала, влюблялась. Жизнь без любви была для неё немыслимой…
–û–∫–æ–Ω—á–∏–≤ –ø–µ–¥—É—á–∏–ª–∏—â–µ, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ —Å—ë–ª –Ω–∞—à–µ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞. –¢–∞–º –æ–Ω–∞ –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂ –∑–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–Ω—è. –í—Å–∫–æ—Ä–µ —Å–µ–º—å—è —É–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤ –ü–æ–¥–º–æ—Å–∫–æ–≤—å–µ, –≥–¥–µ –æ–Ω–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –∏ —Ä–∞—Å—Ç–∏–ª–∏ –¥–æ—á—å. –Ý–∞–∑–∞ –¥–≤–∞ –®—É—Ä–æ—á–∫–∞ –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É, –≤—Å—ë —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –ª—ë–≥–∫–∞—è, –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è, –∫—É–∫–æ–ª—å–Ω–∞—è —Å–æ–±–ª–∞–∑–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞.
Говорят, что она уже ушла в мир иной…
–ò –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –º–µ–Ω—å—à–µ –æ–¥–Ω–æ–π –≥—Ä–µ—à–Ω–æ–π —á–∞—Ä–æ–≤–Ω–∏—Ü–µ–π.
–î–≤–∞–∂–¥—ã –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω
Ванечка вырос в семье Каина. Это проклятое слово «каин» неизвестно откуда и когда заклеймило род Вани. Возможно, явилось оно из тёмных глубин веков, и прародителями его были далёкие предки, проклятые небом.
–ò–∑–±–∞ –ö–∞–∏–Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–ª–∞ —Å —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏–º –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ–º. –í–∞–Ω—è –±—ã–ª –ø–æ–∑–¥–Ω–∏–º –∏ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Ä–µ–±—ë–Ω–∫–æ–º —É –ø–æ–∂–∏–ª—ã—Ö —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –°–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π, –∑–∞—Å—Ç–µ–Ω—á–∏–≤—ã–π, –±–æ–ª—å—à–µ–≥–ª–∞–∑—ã–π –í–∞–Ω–µ—á–∫–∞ –±—ã–ª –ª—é–±–∏–º—Ü–µ–º –æ–¥–Ω–æ—Å–µ–ª—å—á–∞–Ω. –ï—â—ë –≤ –æ—Ç—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–µ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –≤ –Ω—ë–º —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–∞—è —Ç—è–≥–∞ –∫ –º—É–∑—ã–∫–µ. –Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –∫—É–ø–∏–ª–∏ –µ–º—É –ø—Ä–æ—Å—Ç–µ–Ω—å–∫—É—é –≥–∞—Ä–º–æ–Ω—å, –∏ –í–∞–Ω–µ—á–∫–∞ —á–∞—Å–∞–º–∏ –Ω–µ –º–æ–≥ –æ—Ç –Ω–µ—ë –æ—Ç–æ—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –º–∞–ª—å—á–∏–∫-—Å–∞–º–æ—É—á–∫–∞ —Ç–∞–∫ –∑–∞–∏–≥—Ä–∞–ª, —á—Ç–æ —É–¥–∏–≤–∏–ª –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –Ω–æ –∏ –≤—Å—é –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é. –Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏, —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º —Å–æ–±—Ä–∞–≤ –¥–µ–Ω—å–≥–∏, –∫—É–ø–∏–ª–∏ –í–∞–Ω–µ –≥–∞—Ä–º–æ–Ω—å –≤—ã—Å—à–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞ ‚Äì –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ –µ—ë –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–ª—É–±–∞—è–Ω–æ–º.
–ü–æ—Å–ª–µ —à–∫–æ–ª—ã –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–≤ –ø—Ä–æ—Ñ—É—á–∏–ª–∏—â–µ, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –≤ –£–Ω–µ—á–µ. –ù–æ –∫–∞–∂–¥—ã–π –≤—ã—Ö–æ–¥–Ω–æ–π –∏ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –±—Ä–∞–ª –æ–Ω –≥–∞—Ä–º–æ–Ω—å, –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –æ–Ω –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É –∏ –∏–≥—Ä–∞–ª.
Боже мой! Что это была за музыка! Неземные мелодии взлетали из-под талантливых пальчиков Вани: то взметнувшись вверх, лились, ликовали мажорные голоса и будили, призывно манили человека в мир счастья и безбедной жизни; то вдруг, уйдя в другую тональность, плыла на полутонах мягкая, лиричная, богом данная импровизация. Плакали звуки-голоса, тихо вздыхали басы. И снова мажор, торжествующий, звонкий, радостный – полёт души Вани. Это был дар свыше. Искусно извлеченные, изумительные переборы уносились в ночь – и гомонящая ночь затаила дыханье. Перед талантом склоняли головы деревья, цветы и травы. И умолкали птицы, и всё живое вокруг замирало в низком поклоне.
Люди выходили во дворы и восторженно шептали: «Вот играет сын Каина – мёртвого поднимет». Мёртвых не поднимал, но старые, немощные выползали на улицу, больные открывали окна, капризные дети в колыбелях умолкали. И всё это застывало, боясь разрушить гармонию великого таланта и души. Ванечка играл…
Война.. Он ушёл на фронт. Два года родители тщетно ждали весточки от сына. Да откуда ей было придти? Село было занято немцами. В сентябре 43 прилетели первые ласточки-треугольнички с фронта. От Вани весточки не было…Каждый день выходили родители навстречу почтальону. Видя их отчаяние, она говорила: «Успокойтесь, напишет вам Ваня, скоро напишет». И вот он, страшный конверт со словами: «Ваш сын геройски погиб в боях за Сталинград». Поседели старики в одночасье, стали часто побаливать и похоронили Ванечку в своих душах. Но боль не отступала, так и жили с ней, горевали.
–ù–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç–∏–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–≤–∏—Å–ª–æ –Ω–∞–¥ –∏–∑–±–æ–π –ö–∞–∏–Ω–∞. –ß–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ–¥ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –¥—Ä—É–≥–æ–π –∫–æ–Ω–≤–µ—Ä—Ç —Å —Ä–∞–∑–º—ã—Ç–æ–π, –Ω–µ—Ä–∞–∑–±–æ—Ä—á–∏–≤–æ–π –ø–µ—á–∞—Ç—å—é. –ù–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –ø–∏—Å–∞–ª, —á—Ç–æ –∏—Ö —Å—ã–Ω –∂–∏–≤, –Ω–æ –∏–∑-–∑–∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –∏–º –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ, –≤–æ—Ç-–≤–æ—Ç –≤–µ—Ä–Ω—ë—Ç—Å—è –∫ –Ω–∏–º, –∂–¥–∏—Ç–µ.
–£ –º–µ–Ω—è –Ω–µ—Ç –¥–∞—Ä–∞ –æ–ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å—à–∏—Ö —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π –í–∞–Ω–∏. –ù–æ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –¥–Ω–∏, –Ω–µ–¥–µ–ª–∏, –º–µ—Å—è—Ü—ã, –í–∞–Ω—è –Ω–µ –ø–∏—Å–∞–ª, –Ω–µ –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª. –í –∫–∞–∂–¥–æ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ–º –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ—à—ë–ª –µ—â—ë –≥–æ–¥. –ë–µ–¥–Ω—ã–µ —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∏ —Å —Ç–µ–º –ø–∏—Å—å–º–æ–º –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –≤ –≤–æ–µ–Ω–∫–æ–º–∞—Ç. –í–æ–µ–Ω–∫–æ–º, —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–≤ –∫–∞—Ä–∞–∫—É–ª–∏, –Ω–∞—Ü–∞—Ä–∞–ø–∞–Ω–Ω—ã–µ –±–µ–∑–∂–∞–ª–æ—Å—Ç–Ω–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –Ω–µ–≥–æ–¥—è—è, –º–æ–ª—á–∞–ª, –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–¥–ª–æ—Å—Ç—å—é —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –í–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –æ–Ω –∏ –Ω–∞ –∫–æ–Ω–≤–µ—Ä—Ç —Å —Ä–∞–∑–º–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–µ—á–∞—Ç—å—é, –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª: —Ç–æ –±—ã–ª–∞ –∑–ª–∞—è —à—É—Ç–∫–∞ –ø–æ–¥–æ–Ω–∫–∞. –ú–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∂–∏—Ç–µ–ª—å, –∏—Å—á–∞–¥–∏–µ –∞–¥–∞, —Å–º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∏–ª –ø–æ–¥–æ–±—å–µ –ø–µ—á–∞—Ç–∏, –Ω–∞—Ü–∞—Ä–∞–ø–∞–ª –ø–∏—Å—å–º–æ –∏ –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª –µ–≥–æ –≤ –ø–æ—á—Ç–æ–≤—ã–π —è—â–∏–∫. –ù–∏ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–µ –º–∏—Ä–∞ –Ω–µ –∑–Ω–∞—á–∏–ª–æ—Å—å –≤—ã–¥—É–º–∞–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞.
Старики в горе катались по полу, плакали. А когда настал вечер, отправились на облюбованное место кладбища, где должны были их после смерти похоронить соседи. Долго лежали они на траве, причитая и плача, старики молили Бога взять их поскорее. Зашумели деревья в тревоге и тут же умолкли, и поникли травы, и утихли птицы. Чёрная печаль окутала землю…
Вдруг налетели тучи, потухла луна, и померкли звёзды; небо разверзлось, ударил гром, и водяная стена рухнула наземь…Задрожала земля, застонала, заплакали деревья и травы, онемело чёрное вороньё, и люди застыли в скорбном молчании. Несчастные старики рыдали, их слёзы смешивались с потоками дождя и неслись в реки, большие и малые. Возможно, влились они в Волгу и омыли косточки Ванечки.
–¢–∞–∫ –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑ –±—ã–ª –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –≤–æ–∏–Ω –∏ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤—ã–π –º—É–∑—ã–∫–∞–Ω—Ç.
А на соседней улице у калитки под проливным дождём стояла девушка с прекрасным русским лицом, тронутым двумя скорбными морщинками, в ясных глазах её – печаль. Горькие слёзы невесты катились по бледным щекам, горячие губы шептали только два слова: «Ваня, Ванечка».
Крик её души – отчаянное «Ваня, Ванечка» - рванулся и вознёсся в небесные дали навстречу душе Ванечки.
–í–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤–æ–µ –ø–æ–ª–µ
Васильковое поле лежало за крошечным посёлком «Мазовка», отделяющем Унечский район от Стародубского. Девочка быстро пробегала это удивительно-патриархальное селеньице из пяти изб.
–ó–¥–µ—Å—å, –Ω–∞ –£–Ω–µ—á—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–µ, –≤—Å—ë –±—ã–ª–æ –¥—Ä—É–≥–∏–º: –∏–∑–±—ã —Å –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º–∏ –¥–æ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ–∫–æ—à–µ—á–∫–∞–º–∏, –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã, –æ–¥–µ—Ç—ã–µ –ø–æ-—Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–æ–º—É, –≤ —á–µ–ø—Ü–∞—Ö –∏ —Å–∞—Ä–∞—Ñ–∞–Ω–∞—Ö –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥–æ –∫—Ä–æ—è. –ì–æ–≤–æ—Ä –∑–¥–µ—à–Ω–∏–π —Ç–æ–∂–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª—Å—è –æ—Ç —Å—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–≥–æ.
–û–Ω–∞ –±–µ–∂–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ—é –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é, –≥–æ—Ä—è—á–æ –ª—é–±–∏–º—É—é —Ä–æ–¥–∏–Ω—É, –≤ —Å–µ–ª–æ –ë—Ä—è–Ω-–ö—É—Å—Ç–∏—á–∏. –ò –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –µ–π, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∞ —Ç–∞–∫–∏—Ö —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–≤, –Ω–∞–ø–æ—ë–Ω–Ω—ã—Ö –±–ª–∞–≥–æ—É—Ö–∞–Ω—å–µ–º —Ü–≤–µ—Ç—É—â–∏—Ö –ø–æ–ª–µ–π –∏ –ª—É–≥–æ–≤. –í—Å—ë –º–Ω–µ, –¥–µ–≤–æ—á–∫–µ, –±—ã–ª–æ –º–∏–ª–æ –∑–¥–µ—Å—å –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ. –Ø –±–µ–∂–∞–ª–∞, –ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –ø–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∑–µ–º–ª–µ, –∏ –º–æ—ë –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–µ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞–ª–æ –∏ –ø–µ–ª–æ.
–ó–∞ –ø–æ—Å—ë–ª–∫–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª–æ –∑–æ–ª–æ—Ç–∞—è —Å—Ç–µ–Ω–∞ –ø–æ—Å–ø–µ–≤–∞—é—â–µ–π —Ä–∂–∏, –ø—Ä–æ–Ω–∏–∑–∞–Ω–Ω–æ–π –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–∞–º–∏. –í–∞—Å–∏–ª—å–∫–∏! ¬´–Ý–µ–¥–∫–∞—è –ø—Ç–∏—Ü–∞ –¥–æ–ª–µ—Ç–∏—Ç –¥–æ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã –î–Ω–µ–ø—Ä–∞¬ª, —Ä–µ–¥–∫–∏–π —Ü–≤–µ—Ç–æ–∫ —Ç–∞–∫ —É–º–∏–ª—è–µ—Ç –¥—É—à—É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –¢—ë–º–Ω–æ-–≥–æ–ª—É–±–æ–µ —á—É–¥–æ! –í –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ —Ç–∞–∫ –º–∞–ª–æ –≥–æ–ª—É–±—ã—Ö —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤. –í–∞—Å–∏–ª—ë–∫! –ù–µ—Ç —Ç–µ–±–µ —Å–æ–ø–µ—Ä–Ω–∏–∫–∞. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ –ª—É–ø–æ–≥–ª–∞–∑–∞—è —Ä–æ–º–∞—à–∫–∞? –î–∞, –∑–∞–ø–æ–ª–æ–Ω–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞ –ª—É–≥–∞ –∏ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–∏, –ø–∞–ª–∏—Å–∞–¥–Ω–∏–∫–∏ –∏ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥—ã. –•—Ä—É–ø–∫–∏–π, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —É–≤—è–¥–∞—é—â–∏–π —Ü–≤–µ—Ç–æ–∫, —Å—Ç–∞–ª —Å–æ—Ä–Ω—è–∫–æ–º. –í–∞—Å–∏–ª—ë–∫ –∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑–º–µ–Ω–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –°–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∏ –Ω–µ–∂–Ω—ã–π, —Ä–∞—Å—Ç—ë—Ç –æ–Ω –∏–∑–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –Ý–∞—Å—Ç—ë—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–∞—Ö, –≤–æ —Ä–∂–∏ –∏ –ø—à–µ–Ω–∏—Ü–µ. –Ý–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã–µ —Ä–æ–∑—ã, –ø—ë—Å—Ç—Ä—ã–µ –≥–≤–æ–∑–¥–∏–∫–∏, –ø—ã–ª–∞—é—â–∏–µ –≥–ª–∞–¥–∏–æ–ª—É—Å—ã —Ç–∞–∫ –Ω–µ —Ç—Ä–æ–Ω—É—Ç —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –Ω–∞—à–µ, –∫–∞–∫ –º–∏–ª—ã–π –±—É–∫–µ—Ç –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤ –≤ –ø—Ä–æ—Å—Ç–µ–Ω—å–∫–æ–π –≤–∞–∑–µ. –í –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ –º—ã –ø–ª–µ–ª–∏ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –≤–µ–Ω–æ—á–∫–∏. –í–∞—Å–∏–ª—ë–∫ –Ω–µ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–Ω –∫ –≤–ª–∞–≥–µ, –∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –Ω–∞—à–∏ –≤–µ–Ω–æ—á–∫–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –∂–∏–≤—ã–º–∏.
–£–∑–∫–∞—è —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞, –ø—Ä—è—á–∞—Å—å –≤ —Ç–µ–Ω–∏ —Ä–∂–∏, —Å–∫–ª–æ–Ω–∏–≤—à–µ–π—Å—è –ø–æ–¥ —Ç—è–∂–µ—Å—Ç—å—é –Ω–∞–ª–∏—Ç—ã—Ö –∫–æ–ª–æ—Å—å–µ–≤, –≤–∏–ª–∞—Å—å —Ç—ë–º–Ω–æ–π –∑–º–µ–π–∫–æ–π –∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ–∑–∞–ª–∞ –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤–æ–µ –ø–æ–ª–µ. –Ø –±–µ–≥—É –ø–æ —ç—Ç–æ–π —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ, –Ω–µ —á—É—è –Ω–æ–≥, –∏ —Ä–≤—É –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–∏ –¥–ª—è –≤–µ–Ω–∫–æ–≤ –º–æ–∏–º –¥–≤–æ—é—Ä–æ–¥–Ω—ã–º —Å—ë—Å—Ç—Ä–∞–º. –í–¥—Ä—É–≥ —Å–ª—ã—à—É –≤ –Ω–µ–¥–∞–ª—ë–∫–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–≥–æ –ø–æ–ª—è, –∫–∞–∫ —á—Ç–æ-—Ç–æ –∑–∞—à—É–º–µ–ª–æ –∏ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–æ: —á–µ—Ä–Ω–æ–≤–æ–ª–æ—Å–∞—è –≥–æ–ª–æ–≤–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –ª—å–Ω—É–ª–∞ –∫ –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–µ. –Ø —Å–±–∞–≤–∏–ª–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å –∏ –ø—Ä–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å, –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–∞—è –Ω–µ–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–æ–π: —á–µ—Ä–Ω–æ–≤–æ–ª–æ—Å—ã–π –≤—Å—ë –ª—å–Ω—É–ª –∫ –¥–µ–≤—É—à–∫–µ –∏, –ø–æ–ø—Ä–∞–≤–ª—è—è –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤—ã–π –≤–µ–Ω–æ–∫ –Ω–∞ –µ—ë –≥–æ–ª–æ–≤–µ, –≥–ª–∞–¥–∏–ª —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã–µ –ø–µ–ø–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∫–æ—Å—ã, —Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª –µ—ë —Ä—É–∫–∏. –î–µ–≤—É—à–∫–∞ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–æ–±–æ–π, –≤ –µ—ë –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã—Ö —Ç–µ–º–Ω–æ-—Å–∏–Ω–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –±—ã–ª–∏ –ª—é–±–æ–≤—å –∏ —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, –≥–æ—Ä–µ—á—å –∏ –∏—Å–ø—É–≥. –î–≤–∞ —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Ä—É—á–µ–π–∫–∞ —Å–ª—ë–∑ –∫–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ –µ—ë —â–µ–∫–∞–º. –ì–ª—è–Ω—É–≤ –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –æ–Ω–∞ –≤–∑–¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∞ –∏ –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –û–ª—è, –¥–µ–≤—É—à–∫–∞ –∏–∑ –º–æ–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞.
Мне было – 10 лет, Оле – 19. Девушка слыла среди сельчан красавицей и недотрогой; рано потеряв отца, она выросла в наибеднейшей семье. Красавица блюла себя, понимая своё положение бесприданницы. Блюла и тайно ждала своего принца. И вот она – любовь: приехал в село на практику молодой агроном, весёлый и умный красавец, вскружил Оле голову, наобещав ей золотые горы, и уехал.
–ê –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ —Å–æ—Ä–æ–∫–æ–≤–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è —É –û–ª—å–≥–∏ —Å—ã–Ω, –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∞ –µ–≥–æ –æ–Ω–∞ –∏–º–µ–Ω–µ–º –≤–æ–∑–ª—é–±–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ ‚Äì –°–µ—Ä—ë–∂–µ–π. –Ý–µ–±—ë–Ω–æ–∫ –±—ã–ª –∫–æ–ø–∏–µ–π –æ—Ç—Ü–∞: –±–æ–ª—å—à–µ–≥–ª–∞–∑—ã–π, —è—Ä–∫–∏–π, –∫—Ä–∞—Å–∞–≤—á–∏–∫. –û–ª—è, –ø—Ä–∏–Ω—è–≤ —É–¥–∞—Ä —Å—É–¥—å–±—ã, –∑–∞–º–∫–Ω—É–ª–∞—Å—å –∏ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª–∞ —Å–µ–±—è –≤ –≤–µ—Ç—Ö–æ–π –∏–∑–±—ë–Ω–∫–µ.
1941 –≥–æ–¥. –Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –∏–¥—É –≤ –ö—É—Å—Ç–∏—á–∏. –í—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é –≤–µ—á–µ—Ä —Å–∞–º–æ–¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –∫–∞–Ω—É–Ω –ü–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –º–∞—è. –°–µ–ª—å—Å–∫–∏–π –∫–ª—É–± –±—ã–ª –∑–∞–±–∏—Ç –ª—é–¥—å–º–∏ –¥–æ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞. –í –∑–∞–ª–µ –±—ã–ª–∞ –∏ –û–ª—è, —É–¥—Ä—É—á—ë–Ω–Ω–∞—è, –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∞—è, –Ω–æ –≤—Å—ë —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü–∞. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –±–µ–∑–¥–æ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–∏–Ω–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Ç–æ—Å–∫–∞ –∏ –±–µ–∑—É—Ç–µ—à–Ω–æ—Å—Ç—å.
Сцена играла, пела, читала – зал смеялся, хлопал в ладоши, ликовал. И вдруг голос: «Оля, пусть Оля споёт!» Голос подхватил зал, хором скандируя: «Оля, Оля, спой!» Девушка опустила голову, а зал просил, требовал, ждал. И Оля поднялась на сцену и запела «грудью»:
…А он гладил, гладил мои косы,
–û–π, –¥–∞ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö –≤–æ —Ä–∂–∏ –º–µ–Ω—è –Ω–æ—Å–∏–ª, –Ω–æ—Å–∏–ª.
Зал замер. Баянист от Бога, то тихо шёл за бархатом голоса, то переходил на чарующий, нежный аккомпанемент. В мёртвой тишине зала звучал только голос Оли, тёплый, мягкий, обволакивающий. Оля пела… Но вот уже в зал уже рванулись последние горькие, трагические слова:
Выйду в поле – всюду рожь густая,
–û–π, –¥–∞ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Å–ª—ë–∑—ã –ø–æ –ª–∏—Ü—É.
–û–π, —Ç—ã, —Ä–æ–∂—å, —Ç—ã, —Ä–∂–∏—Ü–∞ –∑–æ–ª–æ—Ç–∞—è,
–û–π, –¥–∞ —Ç—ã —Å–≥—É–±–∏–ª–∞ –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç—å –º–æ—é.
Затосковала, заголосила песня и перешла в отчаянный, горький речитатив – плач души Ольги. Закрыв лицо руками, она бросилась со сцены к выходу. Тогда баянист пронёс мелодию песни – тоску с такой страстью и печалью, что зал вздрогнул, загудел, загрохотал ладонями, восторженными голосами и слезами растроганных женщин.
Олю любили, жалели, что было редкостью в те времена, карающие девушек, преступивших грань в отношениях с мужчиной. Далёкая от легкомыслия и волокитства, серьёзная и трудолюбивая, отзывчивая, она не вызывала у односельчан презрения и насмешек. Тяжело пережив своё горе и «падение», блюла она себя, затворив своё сердце в четырёх стенах. На этот вечер вышла она впервые за последние два года.
–ì–æ–¥—ã –≤–æ–π–Ω—ã –ª–µ–≥–ª–∏ —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º –±—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º –Ω–∞ –µ—ë —Ö—Ä—É–ø–∫–∏–µ –ø–ª–µ—á–∏; –º–∞—Ç—å —É–º–µ—Ä–ª–∞, –±–∏–ª–∞—Å—å –æ–Ω–∞ –≤ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫—É –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ, —Ä–∞—Å—Ç–∏–ª–∞ —Å—ã–Ω–∞. –¢–∞–∫ –∏ –±–µ–¥—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –∏ –Ω–µ –≤–æ—à—ë–ª –≤ –µ—ë –∂–∏–∑–Ω—å –ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –ö–æ–∂–∞–Ω–æ–≤.
***
–ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –ö–æ–∂–∞–Ω–æ–≤ –≤–æ–µ–≤–∞–ª –≤ —Å–∞–ø—ë—Ä–Ω–æ–º –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–µ. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ —Å–∞–ø—ë—Ä–∞–º–∏ –¥–æ—Ä–æ–≥ –∏ –º–æ—Å—Ç–æ–≤ –Ω–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –∑–µ–º–ª–µ. –°—á—ë—Ç—É –Ω–µ –±—ã–ª–æ! –ü—Ä–æ—à—ë–ª –æ–Ω —á–µ—Ä–µ–∑ –î–æ–Ω, –í–æ–ª–≥—É, –î—É–Ω–∞–π –∏ –¥–æ—à—ë–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ –ë–µ—Ä–ª–∏–Ω–∞. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –º—É–∫, —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏–π –≤—ã–ø–∞–ª–æ –Ω–∞ –µ–≥–æ –¥–æ–ª—é! –ß–∞—Å—Ç–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –º—ã—Å–ª—å: —É–±–∏–ª–∏ –±—ã. –ù–æ –∫–∞–∫ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –æ –∂–µ–Ω–µ –∏ –¥–æ—á–µ—Ä–∏, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∏–ª—ã –±—Ä–∞–ª–∏—Å—å.
Иван Васильевич встретил до войны девушку и крепко полюбил её. Была она хороша и умна, жили дружно, в любви родилась дочь. Последний раз вместе стояли они на обочине дороги у военкомата: он смотрел на жену и дочь – прощался.
После освобождения Брянской области от гитлеровцев написал сразу же письмо жене. Она писала часто и подробно обо всём. Но с весны сорок четвёртого письма приходить перестали. Заволновался Кожанов, загрустил, да тут дали ему после госпиталя кратковременный отпуск. И помчался он в родное село, пришёл на свою улицу… Всё будто на месте: колодец-журавль, соседские избы и дорога та же, только не было его избы. Узнал от соседей, что сгорела она от стрелы молнии: погибли жена и дочь.
Тысячу раз смотрел он смерти в глаза, выжил, а их, дорогих, здесь как и не было. Защемило в груди, рванулся на родные могилы, обнимал и целовал землю, закричал и пустился бежать. Долго бежал, бежал по полю и лугу, остановился, заплакал…
–ü–æ—Å–ª–µ –≤–æ–π–Ω—ã –ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É. –î–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø—Ä–∏–¥—Ç–∏ –≤ —Å–µ–±—è: –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ –≥–æ—Ä–µ –Ω–µ –∑–∞–±—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å. –û –∂–µ–Ω–∏—Ç—å–±–µ –∏ –º—ã—Å–ª–µ–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ; —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –≤ –∫–æ–ª—Ö–æ–∑–µ –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–µ —Å —É—Ç—Ä–∞ –¥–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –°–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º –ø—Ä–∏—Ç–∏—Ö–ª–∞ –±–æ–ª—å –≤ –¥—É—à–µ, –ø—Ä–∏—Ç—É–ø–∏–ª–∞—Å—å.
–®—ë–ª –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –æ–Ω –∑–∏–º–æ–π –ø–æ –∑–∞—Å–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å–µ–ª—É –∏ –Ω–∞—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –º–∞–ª—å—á–æ–Ω–∫—É, –ª–µ–∂–∞—â–µ–º—É –≤ —Å—É–≥—Ä–æ–±–µ –∏ —Ç–∏—Ö–æ —Å—Ç–æ–Ω—É—â–µ–º—É. –ö–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ—Ç–æ–º, –û–ª–∏–Ω —Å—ã–Ω –°–µ—Ä—ë–∂–∞ –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –Ω–æ–≥—É. –ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –ø–æ–¥–Ω—è–ª –ø–æ–ª—É–∑–∞–º–µ—Ä—à–µ–≥–æ –º–∞–ª—ã—à–∞, –∑–∞–ø—Ä—è—Ç–∞–ª –µ–≥–æ –≤ —à–∏–Ω–µ–ª—å, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –≥–¥–µ –æ–Ω –∂–∏–≤—ë—Ç –∏ –∫—Ç–æ –µ–≥–æ –º–∞—Ç—å. –®—ë–ª –∫ –¥–æ–º—É –û–ª—å–≥–∏, –ø—Ä–∏–∂–∞–≤ –∫ –≥—Ä—É–¥–∏ –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞, –∏ –≤–æ—Ä–æ—Ö–Ω—É–ª–æ—Å—å –µ–≥–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ–¥–±–∏—Ç–∞—è –ø—Ç–∏—Ü–∞. –û–ª—å–≥–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∞ –≥–æ—Å—Ç—è –º–æ–ª—á–∞, —Å—É—Ö–æ –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª–∞, —É—Ç–∫–Ω—É–ª–∞ –ª–∏—Ü–æ –≤ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ –∏ –∑–∞–ø–ª–∞–∫–∞–ª–∞. –ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á —Å—Ç–∞–ª –µ—ë –æ —á—ë–º-—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å, –Ω–æ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª–∞ —Å–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ, –Ω–µ–æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ. –û–Ω –∑–Ω–∞–ª –æ –Ω–µ–π –≤—Å—ë –æ—Ç –æ–¥–Ω–æ—Å–µ–ª—å—á–∞–Ω –∏ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–µ—Ç, –Ω–æ –≥–æ—Ä–¥–∞—è, –Ω–µ —Å–¥–∞—ë—Ç—Å—è.
Иван Васильевич остановил свой взгляд на женщине – Ольга была всё ещё похожа на девушку, стройная, красивая. Бывший сапёр увидел, как прохудилась её изба: крыша протекала, окна покривились и сели, местами прогнил пол. Он вызвался ей помочь, Ольга сначала не соглашалась, но он убедил её. Теперь Иван Васильевич часто приходил к ней и чинил избу. Серёжа ходил за ним по пятам, садился на колени и обнимал его. Иван Васильевич проводил с мальчиком всё свободное время, катал его на тракторе, а зимой - на санках. Ольга оставалась недосягаемой, строгой, и он был по-прежнему одинок. Но с той поры жизнь для Ивана Васильевича стала иной: ожил в нём человек, постепенно отогрелась душа. Привязался, прикипел к мальчику. Да что скрывать, полюбил он Олю всей душой. Оля же, увидев его неравнодушие к ней, всё ещё держала Ивана Васильевича на расстоянии. Не могла забыть Его, Сергея.
–¢–∞–∫ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –ø–æ–ª–≥–æ–¥–∞. –û—Å–µ–Ω—å—é –≤ –º–µ—Ä–∑–∫—É—é, –Ω–µ–Ω–∞—Å—Ç–Ω—É—é –ø–æ–≥–æ–¥—É –º–∞–ª—å—á–∏–∫ —Ç—è–∂–µ–ª–æ –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª. –î–æ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã –µ—Ö–∞—Ç—å –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å, –∞ –°–µ—Ä—ë–∂–∞ —Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∏–ª, –∑–∞–¥—ã—Ö–∞–ª—Å—è, –Ω–µ –º–æ–≥ –≥–ª–æ—Ç–∞—Ç—å –ø–∏—â—É. –°—Ä–æ—á–Ω–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–µ—Å—Ç–∏ –µ–≥–æ –∫ –≤—Ä–∞—á—É. –ù–∞–¥–µ–∂–¥—ã –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç –Ω–µ –±—ã–ª–æ: –ø–æ—Å–ª–µ–≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª–æ—à–∞–¥–µ–Ω–∫–∏ - –Ω–µ–º–æ—â–Ω—ã–µ, –¥–æ–±–∏—Ç—ã–µ, –ø–æ–ª–µ–≤–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –¥–æ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–∞ - —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—á–µ–Ω–Ω–∞—è, —Ä–∞–∑–±–∏—Ç–∞—è –¥–æ–Ω–µ–ª—å–∑—è. –ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á —É–∫—É—Ç–∞–ª –°–µ—Ä—ë–∂—É, –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥—å, –ø–æ–¥ —à—É–±—É. –Ý—è–¥–æ–º —à–∞–≥–∞–ª–∞ –û–ª—è. –¢–∞–∫ –¥–æ—à–∞–≥–∞–ª–∏ –æ–Ω–∏ –¥–æ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–∞, –∏–º —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ: –¥–æ–±—Ä—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤–∑—è–ª –Ω–∞ —Ç–µ–ª–µ–≥—É –∏ –¥–æ–≤—ë–∑ –¥–æ –£–Ω–µ—á–∏. –í–æ–≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏, –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞ —Å–ø–∞—Å–ª–∏, –≤—Ä–∞—á–∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –¥–∏–∞–≥–Ω–æ–∑: –¥–∏—Ñ—Ç–µ—Ä–∏—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –∑–∞ –Ω–∏–º –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏, –°–µ—Ä—ë–∂–∞ –±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –∫ –ò–≤–∞–Ω—É –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á—É —Å–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ ¬´–ø–∞–ø–∞, –ø–∞–ø–∞¬ª –∏ –æ–±–Ω—è–ª —Ä—É—á–æ–Ω–∫–∞–º–∏ –µ–≥–æ –∑–∞ —à–µ—é. –û–ª—è –∑–∞–ø–ª–∞–∫–∞–ª–∞ –∏ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞: ¬´–°–ø–∞—Å–∏–±–æ, —Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Ç—ã –Ω–∞—ପ. –¢–∞–∫ —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ–Ω–∏ –º—É–∂–µ–º –∏ –∂–µ–Ω–æ–π, –∂–∏–ª–∏ –¥—Ä—É–∂–Ω–æ, –≤ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–∏. –û–ª—è —Å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∞ –Ω–∞ –º—É–∂–∞, –∞ –æ–Ω –≤ –Ω–µ–π –¥—É—à–∏ –Ω–µ —á–∞—è–ª.
***
Сергей Яснопольский «не канул в воду». По приезду в город он окунулся в работу: учеба и общественная нагрузка захватили все дни и вечера. Думал сразу же написать Оле, но опоздал: за выпуск стенгазеты, «не соответствующей идеям социалистической системы», попал в число подозреваемых во вредительстве. Тогда был период выискивания «врагов народа», и его исключили из комсомола.
Сергей впал в депрессию, тут и подхватила его сокурсница, давно положившая глаз на Яснопольского. Льстила, опекала, липла; он терпел, но не гнал. Оле написать о случившемся не мог, нельзя было. Слишком круто, горько и небезопасно шла его жизнь: теперь за ним была слежка. Товарищи держались от него на расстоянии, боясь с ним дружбы. В 40-м году его направили на практику в далёкую Ярославскую область. Думал: «Закончу последний курс и поеду к Оле, всё объясню любимой, и она поймет». Не успел. Война.
Сергей прошел ее до конца, был дважды ранен, награждён орденом «Славы». Вернулся на свою Орловщину только в 46 году, работал в совхозе старшим агрономом и терпеливо ждал зимнего отпуска. Не выдержал, не давала покоя память о том лете 39 года. Всё чаще явственно видел в золоте василькового поля свою первую любовь, стройную белую берёзку, с веночком из васильков на льняной головке. Оленька…
–ü–æ–µ—Ö–∞–ª. –ò –≤–æ—Ç –æ–Ω–æ —Ç–æ –ø–æ–ª–µ –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤–æ–µ, –≤ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–π –æ–ø—Ä–∞–≤–µ. –®—ë–ª –æ–Ω –ø–æ —Ç–æ–π –∂–µ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ, –∏ —á—É–¥–∏–ª–∏—Å—å –µ–º—É –≤ –∑–æ–ª–æ—Ç–µ —Ä–∂–∏ —Ç—ë–º–Ω–æ-—Å–∏–Ω–∏–µ –¥–µ–≤–∏—á—å–∏ –æ—á–∏, —Ç–∞–∫–∏–µ –ª—é–±—è—â–∏–µ –∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ.
–í –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –Ω–∞ –∑–∞–∫–∞—Ç–µ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞, —É –¥–µ–≤–æ—á–∫–∏, –∏–¥—É—â–µ–π –ø–æ —Å–µ–ª—É, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–± –û–ª–µ. –û–Ω–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –û–ª—è –∂–∏–≤–∞, —Ä–∞–Ω—å—à–µ –∂–∏–ª–∞ —Å —Å—ã–Ω–æ–º, –Ω–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –¥–∞–≤–Ω–æ –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂. –≠—Ç–∞ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫ –æ—à–∞—Ä–∞—à–∏–ª–∞ –°–µ—Ä–≥–µ—è, —á—Ç–æ —É –Ω–µ–≥–æ –ø–æ—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –∏ –∑–∞–¥—Ä–æ–∂–∞–ª–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –ü–æ—á–µ–º—É –µ–º—É –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É, —á—Ç–æ –û–ª—è –º–æ–∂–µ—Ç –Ω–∞–π—Ç–∏ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ? –•–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —É–ø–∞—Å—Ç—å –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–≤—É –∏ —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å. –ù–µ —Å–ø–µ—à–∞, –µ–ª–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—è –Ω–æ–≥–∏, –±—Ä—ë–ª –æ–Ω –ø–æ —É–ª–∏—Ü–µ, –≥–¥–µ –æ–Ω–∏ –≥—É–ª—è–ª–∏ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å –û–ª–µ–π. –¢—É—Ç –±—ã–ª–æ –≤—Å—ë —Ç–∞–∫ –∂–µ, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å –Ω–∏–º –ª—é–±–∏–º–æ–π.
–ê –≤–æ—Ç –∏ –¥–æ–º–∏–∫ –û–ª–∏, —É—Ö–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π, —Å –Ω–æ–≤–æ–π –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–æ–π. –°–µ—Ä–≥–µ–π –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –∫–∞–ª–∏—Ç–∫—É, –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ —Å—Ç–æ—è–ª –º—É–∂—á–∏–Ω–∞, –ø–æ –≤–∏–¥—É –ª–µ—Ç –Ω–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—å —Å—Ç–∞—Ä—à–µ –µ–≥–æ. –ü–æ—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ, –∑–∞–∫—Ä—É–∂–∏–ª–æ—Å—å –≤—Å—ë –ø–µ—Ä–µ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏, –≥—É–ª–∫–æ –∑–∞—Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞–ª–æ, –∑–∞–±—É—Ö–∞–ª–æ –≤ –≥—Ä—É–¥–∏. ¬´–í–æ–¥—㬪, - —Ç–∏—Ö–æ –≤—ã–¥–æ—Ö–Ω—É–ª –æ–Ω. –ú—É–∂—á–∏–Ω–∞ –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –µ–≥–æ –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–∏, –≤–≤—ë–ª –≤ –¥–æ–º. –°–µ—Ä–≥–µ–π —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≥–ª–æ—Ç–æ–∫ –∏ —Å —É—Å–∏–ª–∏–µ–º –ø–æ–¥–Ω—è–ª –≥–æ–ª–æ–≤—É. –Ý–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –ø–æ –ø–æ–ª—É –≤–µ–¥—Ä–∞ —Å –º–æ–ª–æ–∫–æ–º: –≤ –¥–≤–µ—Ä—è—Ö, –≤ –ª—É–∂–µ —Ä–∞–∑–ª–∏—Ç–æ–≥–æ –º–æ–ª–æ–∫–∞, —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –û–ª—è —Å –ª–∏—Ü–æ–º –±–µ–ª–µ–µ —Å–Ω–µ–≥–∞. –ò–≤–∞–Ω –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª, –Ω–æ –≤–∏–¥—É –Ω–µ –ø–æ–¥–∞–ª.
-«Кто это?» - тихо прошептала она.
-«Ничего, Оля», - спокойно ответил мужчина. – «Человеку очень плохо, скорее принеси сердечные капли.»
Оля бросилась в другую половину избы, из двери которой выглядывал мальчик. Сергей сразу узнал сына, сердцем узнал. Оля принесла ему лекарство – руки её дрожали. Полегчало. Через полчаса все сидели за самоваром. Сергей и Оля делали вид, что никогда не знали друг друга. Маленький Серёжа примостился на коленях Ивана Васильевича, льнул к нему и называл папой. Нелегко было Яснопольскому сидеть рядом с незнакомым человеком, ласкающим его, Сергея, сына. Нелегко знать, что любимая женщина вот тут рядом, а он не имеет права прямо взглянуть ей в глаза.
Ещё тяжелее стало, когда легли спать. Сергей слышал, как мужчина говорил ласковые слова Серёжке, ласкал его. Ласкал Иван Васильевич мальчика, а в голову лезли тяжёлые мысли: «Если сердце Оли позовёт назад, и она уйдёт с Яснопольским, мешать не стану. Между ними есть их прошлое, есть их сын». Не спал, ворочался Иван Васильевич, не спала, вздыхала за перегородкой Ольга. В ту ночь никто не спал, Сергей не уснул до утра: перед глазами стояла Оля. За эти годы она не изменилась, вот только синие глаза утратили простодушие и доверчивость, стали строже. Была она такой же родной и любимой.
А утром увидел он над кроваткой сына васильковый венок, васильки от времени усохли, поблёкли. Это тогда, в 39-м, они с Олей собирали васильки и сплели из них венок, он так шёл к синим глазам Оли. Серёжа смотрел на неё восхищённо и называл красавицей-незабудкой. Теперь этот угасший венок был только памятью о чудесном лете любви. Умер венок, да только вот любовь их не умерла: знал, чувствовал Яснопольский, что жива она, жива затворница – боль, и будет жить до конца дней.
Когда Кожанов ушёл за водой, Сергей подошёл к Оле и взволнованно сказал: «Оленька моя, бери нашего сына. Увезу я вас к себе навсегда». Оля отвела в сторону залитые слезами глаза, отрицательно покачала головой и пошла низко опустив её. Нет, не могла она причинить боль Ивану Васильевичу, поднявшему её и сына из нищеты и безмерного горя.
–í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –Ø—Å–Ω–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–π —É—Å—Ç–∞–ª—ã–π –æ—Ç –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç–æ–≥–æ –∏ –±–µ–∑—ã—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥—É–º. –ü—Ä–æ—Ö–æ–¥—è –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤–æ–µ –ø–æ–ª–µ, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –ø–æ–ø—Ä–æ—â–∞–ª—Å—è —Å –Ω–∏–º –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞. –î–æ–º–æ–π –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –±–æ–ª—å–Ω–æ–π: –∏–∑–º—É—á–∏–ª—Å—è, –∏–∑–≤–µ–ª—Å—è. –ù–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∂–∏—Ç—å. –ó–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º –±—É–¥–µ—Ç —É –Ω–µ–≥–æ –≤—Å—ë: –∂–µ–Ω–∞, –¥–µ—Ç–∏, –¥–æ–º, –¥—Ä—É–∑—å—è. –ù–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞, —á—Ç–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–æ –±–µ–∑–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω–æ, –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞. –î–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–∑–¥–æ—Ö–∞ –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –æ–Ω –≤–∞—Å–∏–ª—å–∫–æ–≤–æ–µ –ø–æ–ª–µ, —Ä–æ–¥–Ω—É—é –û–ª–µ–Ω—å–∫—É –∏ –≤—Å—ë –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º–∏. –ü—Ä–æ—â–∞–π, –û–ª–µ–Ω—å–∫–∞, –≤–∞—Å–∏–ª—ë–∫ –º–æ–π —Å–∏–Ω–µ–≥–ª–∞–∑—ã–π! –ñ—É—Ä–∞–≤—É—à–∫–∞ –º–æ—è!
–í–æ–π–Ω–∞ –∏ –ª—é–±–æ–≤—å
Зима 1942 года. В деревне тихо – нет немцев. Власть представляют старшина волости и два полицая. Сельский Совет был переименован немцами в волость, а председатель С\Совета – в старшину волости.
Зима… Деревня рано уходит в ночь, но в одной из квартир учительского дома ярко горят окна, заливается гармонь, и до нашего дома долетает женский смех и топот пляшущих. В обществе полицаев и старшины там веселятся молодые учительницы нашей школы. Из них я только помню по именам двоих. Я выхожу во двор и слышу смех моей первой учительницы Ольги Васильевны, девушки лет тридцати, с благородной внешностью и манерами хорошо воспитанного человека. С лицом белого мрамора, зелёными большими глазами в тёмных ресницах и гладкой причёской чёрных густых волос была она весьма привлекательна.
Дочь коренного горожанина-священника, сосланного в годы перегибов на Соловки, отличалась Ольга Васильевна от учителей из простонародья тактом, сдержанностью, привычками – внутренней культурой. Она, учительница начальных классов, при оккупации была назначена директором нашей семилетней Пятовской школы.
–í —ç—Ç—É –∑–∏–º—É –µ—ë —á–∞—Å—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –≤ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—ã –≤–æ–ª–æ—Å—Ç–∏, –∂–∏—Ç–µ–ª—è —Å. –ü–æ–∫–æ—Å–ª–æ–≤–æ. –Ø —á—ë—Ç–∫–æ –≤–∏–∂—É, –∫–∞–∫ –ø–∞—Ä–∞ –≤—ã—Ö–æ–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–Ω–µ–¥—ã—Ö –ª–∏—Ö–æ –Ω–µ—Å—ë—Ç —Ä–∞—Å–ø–∏—Å–Ω–æ–π –≤–æ–∑–æ–∫ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—ã –ø–æ –∑–∞—Å–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º —É–ª–∏—Ü–∞–º –Ω–∞—à–µ–≥–æ —Å–µ–ª–∞.
–ú–Ω–µ –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ –û–ª—å–≥—É –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–Ω—É –∫–∞—Ç–∞—Ç—å—Å—è —Å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º —Å–µ–º–µ–π–Ω—ã–º, –Ω–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–µ –µ—ë –∫—Ä—É–≥–∞, –¥–∞ –µ—â—ë –∏ —Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–º –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏—Ö –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π?
Что? Быть может, тоска по любимому человеку, жениху, ушедшему на фронт? Или критический возраст и безысходность? Всё, что угодно. Только не была она гулящей. Но, что было, то было…
–•–æ—Ä–æ—à–æ –ø–æ–º–Ω—é –∏ —é–Ω—É—é –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—É—é –¥–µ–≤—É—à–∫—É –∏–∑ –≥. –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±–∞ –¢–∞—Ç—å—è–Ω—É –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–Ω—É, —É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü—É –≥–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏. –ù–∞ –µ—ë —É—Ä–æ–∫–∞—Ö —è –ø–ª–æ—Ö–æ —Å–ª—ã—à–∞–ª–∞, –æ —á—ë–º –æ–Ω–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∞ –Ω–∞ –ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–æ–µ –ª–∏—Ü–æ —É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã —Å —è—Ä–∫–∏–º–∏ –ø—É—Ö–ª—ã–º–∏ –≥—É–±–∞–º–∏ –∏ —á–∞—Ä—É—é—â–µ–π —É–ª—ã–±–∫–æ–π. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ —É–ª—ã–±–∞–ª–∞—Å—å, –æ–±–Ω–∞–∂–∞–ª—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥–Ω–∏–π —Ä—è–¥ –∑—É–±–æ–≤ —Å–æ —â–µ—Ä–±–∏–Ω–∫–æ–π, –∞ –Ω–∞ —â—ë–∫–∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–Ω—ã–µ —è–º–æ—á–∫–∏, –∏ –∫–æ–∫–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∞–≤–∞—è –±—Ä–æ–≤—å.
–•–æ—Ä–æ—à–∞ –±—ã–ª–∞ –¢–∞–Ω—é—à–∞!
Полицай, по имени Шурка, не мог не «запасть» на такое обаяние. Он и сам был красив с лицом, похожим на С. Есенина. Только имидж у него был другой. У Есенина имидж – разгул, а у Шурки – гармонь, с которой он почти не расставался. Гармонист он был отличный.
И вот любовь… Танечка и полицай по весне сыграли свадьбу. Свадьба пела и плясала три дня. Молодые – одно загляденье. Таня – в своём белом, Шурка – в мундире полицая.
–û–±–∞ –ø–æ–ª–∏—Ü–∞—è (–®—É—Ä–∫–∞ –∏ –ï–ª–∏—Å–µ–µ–Ω–∫–æ –ú.) –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –≤–æ –í–ª–∞—Å–æ–≤—Å–∫—É—é –∞—Ä–º–∏—é. –ü–æ—Å–ª–µ —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–∞ –≤–ª–∞—Å–æ–≤—Ü–µ–≤ –æ–±–∞ –ø–æ–ª–∏—Ü–∞—è –ø–æ–ø–∞–ª–∏ –≤ —à—Ç—Ä–∞—Ñ–±–∞—Ç, –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ–≤—É—é, –∏ –æ–±–∞ –ø–æ–≥–∏–±–ª–∏.
–í —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 43-–≥–æ –≥–æ–¥–∞ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è –∑–µ–º–ª—è –±—ã–ª–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∞ –æ—Ç –≥–∏—Ç–ª–µ—Ä–æ–≤—Ü–µ–≤.
–ö–∞–∫ –∂–µ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–ø–ª–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –∑–∞ —Å–≤–æ—é –ª—é–±–æ–≤—å –æ–±–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã!
–ù–∞—à–∏ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –¥–æ–ª–≥–∏–µ –≥–æ–¥—ã ¬´–Ω–∞–µ–∑–∂–∞–ª–∏¬ª –Ω–∞ –Ω–∏—Ö. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –¢–∞—Ç—å—è–Ω–µ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–Ω–µ. –ï—ë —Ç–µ—Ä–µ–±–∏–ª–æ –Ý–ê–ù–û, –û–ë–õ–û–ù–û, –µ—é –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å —Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω—ã –≥. –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±–∞, –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞, –≤—Å–µ ‚Äì –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–æ–≤.
–ù–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–∞–ø—è—Ç–Ω–∞–Ω–∞ –∏ –∑–∞–≥—É–±–ª–µ–Ω–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ—ë –∫–∞—Ä—å–µ—Ä–∞, –Ω–æ –∏ –∫–∞—Ä—å–µ—Ä–∞ –µ—ë –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º—É–∂–∞, –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–∞ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –ê—Ä–º–∏–∏.
–Ø –Ω–µ –≤–ø—Ä–∞–≤–µ —Å—É–¥–∏—Ç—å –Ω–∏ –û–ª—å–≥—É –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–Ω—É, –Ω–∏ –¢–∞—Ç—å—è–Ω—É –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–Ω—É. –í–∏–¥–Ω–æ, —Ç–æ –±—ã–ª–∏ –∏–∑–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–µ–ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –ª–µ–≥–∫–æ–º—ã—Å–ª–∏–µ. –ò–ª–∏ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –æ–Ω–∏ —Ä–∞–∑—É–≤–µ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –≤ –ø–æ–±–µ–¥–µ –Ω–∞—à–µ–π –ê—Ä–º–∏–∏? –ù–∞—à–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞?
Неисповедимы пути твои, Господи…